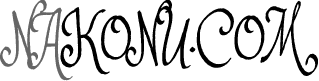Римма Осипенко
Представление о сотрудничестве драматурга и режиссера выглядит приблизительно так: драматург приносит в театр пьесу, режиссер ее ставит. После премьеры автор или радуется, что его замысел в точности воплощен, или рвет на себе волосы, настолько написанное им отличается от увиденного на сцене. В театре Гешер все не так. Потому что Гешером руководит Евгений Арье, а пьесы пишет Рои Хен. Они перевернули традиционный процесс и в результате создали необыкновенный театр, аналогов которому нет в Израиле, да и в мире, пожалуй, тоже
Две сильные творческие личности – это сложно. Как им удается сосуществовать, создавать свою театральную историю, рассказывают художественный руководитель театра Гешер Евгений Арье и завлит театра, драматург Рои Хен.
— Вы помните вашу первую встречу?
Рои Хен: Мне было 19 лет. Я был наглым молодым человеком, который хотел работать в Гешере. Услышал, что преподаватель иврита в театре уехал за границу. Это был Марк Иванир, сегодня он большая звезда в Голливуде. Меня никто не приглашал, я сам пришел. После репетиции вышел Арье, я подошел, сказал, что хочу работать с актерами его театра. Он даже не понял, кто я такой, передал меня кому-то из помощников, и тот сказал, чтобы завтра я приходил. Моим первым учеником был Саша Демидов. Я работал преподавателем, потом переводчиком, уходил, вернулся, стал завлитом.
Евгений Арье: Абсолютно не помню первую встречу… Давайте я расскажу про наш тандем касательно дела. А дело в том, что мы с самого начала пытались, пусть это прозвучит нескромно, строить национальный театр. Не просто хороший, европейский, это само собой разумеется. Он должен был быть уникальным, в том смысле, что это израильский театр. Одна из наших первых постановок «Адам бен келев» по роману Каньюка – работа не по готовой пьесе, а перевод прозы на театральный язык. С тех пор эта линия продолжается, и сегодня она едва ли не главная. Конечно, это касается нашей работы с Рои. Мы сделали вместе массу спектаклей.
Арье и Хен начинают вспоминать постановки, перебивают друг друга, сыплют названиями, и в итоге оказывается, что спектаклей действительно было много, все сразу не вспомнить. Наконец Евгений Михайлович выныривает из спора и продолжает:
ЕА: Одна из самых значительных работ последних лет – это абсолютно мифологический спектакль «Диббук». Идея полностью принадлежит Рои. У нас была задача трансформировать известную во всем мире пьесу таким образом, чтобы она стала внятной и интересной сегодняшнему зрителю. Нам хотелось не уважения к классическому театральному материалу, а живого спектакля. Мы рисковали, нас могли раскритиковать в пух и прах.
РХ: Прежние постановки «Диббука» были неудачными, их постоянно сравнивали с мифом. Они действительно недалеко ушли от мифа, в этом их главная проблема. Есть театры, которые называют себя лабораториями, а на самом деле это фигня – настоящая лаборатория у нас! Мы страшно мучаемся, страдаем, когда ищем материал. Не потому что нет достойных пьес, их миллион. Мы говорим себе: давайте в следующий раз возьмем одну из них, как делают все театры. Но почему-то выбираем трудный путь… Хочется создавать уникальное, штучное, когда что-то рождается, для этой публики готовится. Играться будет недолго, театр – не вечное искусство. Кто успел, тот увидел падающую звезду, кто не успел – все. Оглядываясь назад, думаешь: мы столько работали, вкладывали, а спектакль шел всего два года.
ЕА: Сложность подобного пути в нашей маленькой стране будет понятна в сравнении. В России спектакли могут идти на протяжении двадцати лет. Когда знаешь, что у твоей постановки такая длинная жизнь, понятно, какой вклад необходимо сделать. Здесь мы никогда не знаем, будет два года или полгода. И часто это совсем не зависит от качества спектакля. Но мы продолжаем, наивно веря, что культура не является неким приложением к важным вещам. Культура – то, что во многом, если не в главном, определяет жизнь людей. Это не только энтертеймент [развлечения]. В нем одна из задач театра, но театр не может этим исчерпываться. Мы – отдельный департамент, и пока мы в это верим, мы идем на всякие рискованные, иногда не оправдывающие себя вещи.
— В последние годы вы, Евгений Михайлович, в основном ставите Хена. Как, кстати, называть ваши спектакли – постановки прозы, адаптации?
ЕА: Можно ли назвать спектакль «Я – Дон Кихот» адаптацией романа Сервантеса? Совсем нет! Это совершенно самостоятельная пьеса, связанная с романом «Дон Кихот». Скорее, это спектакль о романе, о его роли в нашей жизни.
РХ: Если мы заговорили о «Дон Кихоте»… Мы сидим в кабинете Евгения Михайловича и проживаем целую жизнь – снова и снова читаем текст, иногда даже приносим декорации. Спектакль просто рождается на глазах, на сцене появляются наши обсуждения, иногда даже споры. С годами наши проекты становятся более рискованными, обычный репертуарный театр в жизни бы не стал такого делать. Но мы знаем, что у наших спектаклей есть публика, и не только в Тель-Авиве, как иногда думают. Люди ищут в театре ответы, отклик на то, что они чувствуют. Но это не исключает развлечения. Серьезный, глубокий спектакль может быть веселым и радостным. Мы понимаем, что театр – это шоу, но нам неинтересно делать фаст-фуд, который нужно разогревать в микрогале и подавать.
— Раз уж мы говорим о «Дон Кихоте»… В антракте премьерного спектакля одна зрительница громко возмущалась. Она была глубоко шокирована тем, что Санчо мастурбирует на сцене…
РХ: Он мастурбирует не на сцене, а в тюремной камере. На сцене действительно нехорошо, а в тюрьме нормально.
— Тем не менее. Скажите, вам обязательно было нужно шокировать бедную женщину?
ЕА: Если ответить коротко – обязательно. Но мы ничего не делаем специально для шока. Люди, которые служили в армии или знают, что такое тюрьма, понимают – там это совершенно обычная вещь. Если мы ее обойдем, значит, мы разговариваем со зрителем не очень серьезно. Еще в этой сцене есть реакция второго человека – если бы ее не было, это было бы порно. Но мы показываем совсем другое.
— Евгений Михайлович, вы говорили, что давно хотели поставить «Дон Кихота», потому что нельзя его не ставить в театре, в котором есть Саша Демидов. И вдруг появляется спектакль, в котором два Дон Кихота – Демидов и Дорон Тавори. На это повлияла пьеса, написанная Рои?
ЕА: Во-первых, да. Во-вторых, с тех пор, как я хотел поставить «Дон Кихота», прошло столько лет… Путь к роману долго не находился, и вдруг он возник. Такой актер, как Дорон, нам очень важен в силу антигероического типажа. Для нас это были принципиальные вещи. И возникла идея сделать два спектакля с разными исполнителями. Вначале я не верил, что многие зрители приходят на спектакль дважды, и на Тавори, и на Демидова. Но это так.
— Рои, кто из двух актеров ближе к тому образу, который вы создавали?
РХ: Я знал, что пишу роль для двух артистов. Мне везет, как никому другому: я заранее знаю, кто из актеров будет играть. Я их даже слышу в голове, знаю их «размеры», как хороший портной знает мерки постоянных клиентов. Мне очень легко, приятно, классно для них писать. Но иногда они говорят текст, и я вношу поправки, или у Арье появляется идея, и нужно править. Это коллективная, живая работа, которая требует доверия.
ЕА: Рои говорит об одной из главных вещей. В старом театре был драматург, который писал пьесу. Потом эта пьеса попадала к режиссеру, он распределял роли, заказывал художнику оформление сцены, которые делались отдельно. Кстати, чаще всего декорации не имели никакого отношения к действию, к спектаклю. Так театр существовал много лет, и сегодня во многих местах все происходит так же. Я верю в совершенно другую систему. Это не только работа двоих. Мы очень часто меняем конфигурацию будущего спектакля в связи со сценографией, которая не просто картинки, а география постановки. Абсолютно все взаимосвязано, поверьте, это не просто слова. Если такой связи нет – спектакль в опасности. Когда начинают выяснять, кто что придумал, это гроб. Все идет в котел, который варится до последнего дня. Был спектакль, у которого за десять дней до выхода мы отрезали второй акт, целый акт.
РХ: Посмотрели на то, во что было вложено немало времени, сил, и сказали: до свидания!
ЕА: Ампутировали, хотя было затрачено огромное количество усилий, чтобы придумать, сделать. Если бы у нас между собой и с труппой были другие отношения, мы бы не смогли. Нам бы никто не запретил, но мы бы не решились. В нашем театре все переплетено, например, Рои понимает в режиссуре больше, чем многие израильские режиссеры. Я не шучу.
— А поставить спектакль вы ему предложите?
ЕА: У него должно быть желание. И оно, к счастью, не приходит.
РХ: Очень многие люди, которые сидят около режиссера, считают: я понимаю, как он это делает, я тоже могу! Но, тоже к счастью, я понимаю, что я не могу. Режиссер – профессия, ты не овладеешь ею, если сидел рядом с человеком даже двадцать лет. Находясь каждый день рядом с врачом-хирургом, ты не научишься делать операции на сердце. Максимум, ты можешь сыграть врача. Я могу сыграть режиссера, но не могу поставить спектакль. Я за профессионализм, пусть каждый занимается своим делом. Понимание, что такое режиссер, мне помогает писать. Я могу предложить не режиссерский ход, а построение сцены, место, интонацию. Я придумываю не пьесу, а спектакль.
ЕА: Представьте себе красивое здание. Архитектор видит не только его красоту, но и как оно спроектировано и построено: систему балок, водопровод, электропроводку. Он видит скелет. Когда Рои пишет, он создает не слова, а внутреннюю драматическую структуру, текст, предназначенный для действия. Это уже сидит в нем автоматически.
РХ: Добавлю, что, если бы мы не работали одними актерами, было бы тяжело. Труппа обновляется, но есть ядро. Это очень помогает: вырабатывается театральный язык, на котором мы говорим. Но бывают совпадения. Дорон Тавори, о котором мы вспоминали, большую часть жизни работал в других театрах, но пришел в Гешер, и оказалось, что мы разговариваем на одном языке. Это как найти любовь. Общий язык экономит время: в театре много людей, и все любят философствовать. Это от недопонимания – если возникают длинные разговоры, значит, люди друг друга не понимают.
ЕА: Чаще всего такие разговоры означают: никто не знает, что надо делать. Это может быть бесконечная история, но самое опасное, что она не приближает тебя к цели, а наоборот, отдаляет.
РХ: Я раньше не умел воспринимать визуальное искусство, во всех картинах и скульптурах искал сюжет. Смотрел на роденовского Мыслителя и воображал, о чем он думает. Жена сказала: получи импульс, и все. У нас в конечном итоге тоже должен быть только импульс, который электрическим разрядом идет к публике. Нет примечаний, нельзя объяснить, что ты имел в виду. Все происходит в тот момент, когда происходит.
ЕА: Мы должны настроить зрителя на свою эмоциональную волну, чтобы произошел обмен энергиями. В зале бывает разная тишина, иногда она такая тяжелая… А порой – неслышный щелчок, и происходит подключение. Это театр, который мы создаем.
Вся информация о ближайших спектаклях – на сайте театра Гешер на русском языке: www.gesher-theatre.co.il/ru/